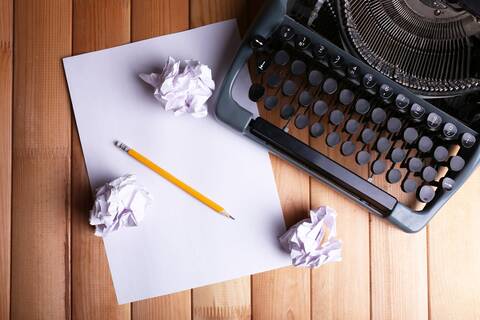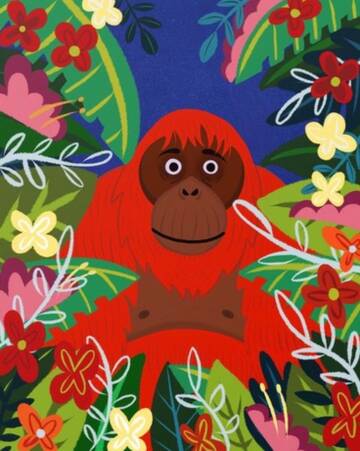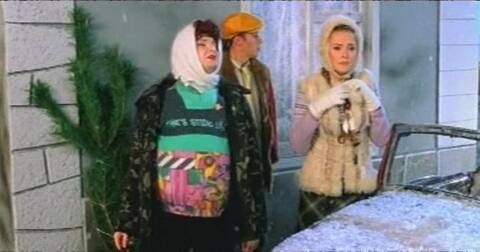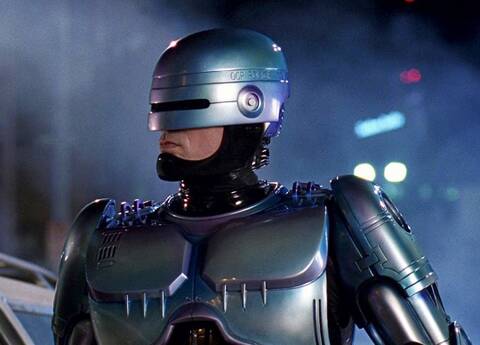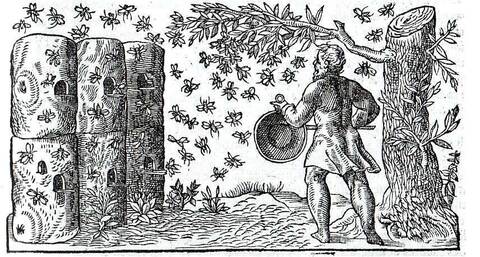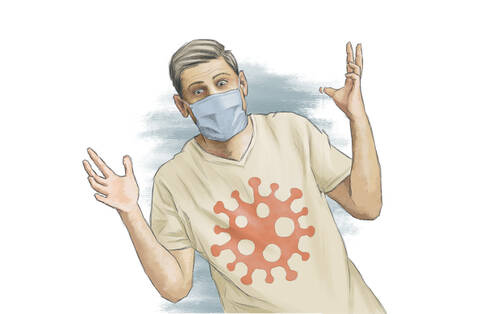Вторая ступень для формулы отражающего коэффициента
Брезжится день и в сумятице сальной,
Грубо размозжен значений поток,
Сквозь позолот, нестерпимо сусальный
Вяжется смысл, непривычен и строг.
Вновь заклейменными дырами блещут
Многоступенья... На взлёт ли? В кювет?
Я вам сегодня всего лишь мерещусь.
Так ли всё будет, коль выйду на свет?
Розовым цветом, в глухих прибаутках,
Нервом вразлет на безумство идей...
Я ведь живой! Я могу быть не в шутку!
Вышедшим вдруг из пространства людей.
Стынью земной напоказ переполнен,
Чередованьем то в блёстки, то в чернь,
Властно бреду. Жив. Пока что не сломлен.
Сквозь передряги. Вторая ступень.
Вторая ступень
Автор: Душевед
Философская часть «Македонской критики» – это попытка низвергнуть с пьедестала величайших французских мыслителей прошлого века. Мишель Фуко, Жак Деррида, Жак Лакан и так далее – не обойдено ни одно из громких имён.
Названием работа обязана методу, которым пользуется Кика (Кика Нафиков главный герой повести, прим. ОЛЛИ), – это как бы стрельба с двух рук, не целясь, о чём он говорит в коротком предисловии сам.
Достигается это оригинальным способом: Кика имперсонирует (1) невежду, никогда в жизни не читавшего этих философов, а только слышавшего несколько цитат и терминов из их работ. По его мысли, даже обрывков услышанного достаточно, чтобы показать полную никчёмность великих французов, и нет нужды обращаться к оригиналам их текстов, тем более что в них, как выражается Кика, «тупой ум утонет, как утюг в океане г - на, а острый утонет, как дамасский клинок».
При этом Кика стремится сделать свой пасквиль максимально наукообразным и точным, уснащая его цитатами и даже расчётными формулами.
Подход был бы, возможно, интересен, если бы критик - невежда, которым притворяется Кика, не был таким отчётливым французским философом. Увы, неподготовленный читатель при знакомстве с философскими пассажами «Македонской критики» неизбежно почувствует себя чем - то вроде утюга в ситуации, упомянутой Нафиковым. Все претензии, которые Кика предъявляет французам, могут быть точно так же обращены к нему самому.
Вот, например, как он сравнивает двух философов, Бодрияра и Дерриду:
«Что касается Жана Бодрияра, то в его сочинениях можно поменять все утвердительные предложения на отрицательные без всякого ущерба для смысла. Кроме того, можно заменить все имена существительные на слова, противоположные по значению, и опять без всяких последствий. И даже больше: можно проделать эти операции одновременно, в любой последовательности или даже несколько раз подряд, и читатель опять не ощутит заметной перемены. Но Жак Деррида, согласится настоящий интеллектуал, ныряет глубже и не выныривает дольше. Если у Бодрияра всё же можно поменять значение высказывания на противоположное, то у Дерриды в большинстве случаев невозможно изменить смысл предложения никакими операциями».
Бросается в глаза, что особое раздражение Кики во всех случаях вызывает Жан Бодрияр, часто называемый «Бодриякром» – по аналогии с термином «симулякр» (которым Кика чудовищно злоупотребляет в «Македонской критике», оговариваясь, правда, следующим образом: «Читатель понимает, что слово «симулякр», как его употребляю я, есть всего лишь симулякр бодрияровского термина «симулякр»). Раздражение легко объяснить – именно Бодрияр стоял у истоков открытия, которое сделало Кику преступником, но, как он полагал, поставило далеко впереди всех современных мыслителей.
Ненависть Нафикова к Бодрияру – это интеллектуальный эдипов комплекс. Он проявляется в желании уничтожить идейного предшественника, магически перенеся на него судьбу отца, испытавшего на себе всю мощь македонской критики (2). Дерриде с Соссюром пришлось отдуваться просто за компанию. Но здесь от смешного мы начинаем переходить к страшному.
Расколошматив своих идейных наставников из двух стволов, Кика задумчиво вопрошает: почему вообще существует французская философия? Его ответ таков – это интеллектуальная погремушка, оплачиваемая транснациональным капиталом исключительно для того, чтобы отвлечь внимание элиты человечества от страшного и позорного секрета цивилизации.
Кика полагал, что был первым, кто увидел этот секрет во всей его жуткой простоте. Зародыш, из которого родилась его мания, мирно дремал в книге Бодрияра «Символический обмен и смерть». Мы приведём эти роковые слова чуть позже: чтобы понять реакцию, которую они вызвали в Кике, надо представить себе гремучую смесь, находившуюся в его сознании к этому моменту. Сделать это несложно – в «Македонской критике» он уделяет воспоминаниям много места, предвкушая, видимо, внимание историков.
Начинает он с рассказа о том, какую роль сыграла в его жизни нефть. Ещё мальчиком он понял, насколько от неё зависит благосостояние семьи, – и отреагировал по - детски непосредственно.
На стене кабинета Нафикова - старшего долгие годы висел рисунок сынишки: некто зловещего вида, похожий не то на Синюю Бороду, не то на Карабаса - Барабаса, держит над запрокинутым лицом круглый сосуд с контурами материков, из которого в рот ему льётся тонкая чёрная струйка. Снизу разноцветными шатающимися буквами было написано: «ПАПА ПЬЁТ КРОВЬ ЗЕМЛИ». Рядом висел другой интересный рисунок – сделанный из замёрзшей нефти снеговик с головой Ленина (из - за того, что усы и борода Ильича были нарисованы белым по чёрному, снеговик больше походил на Кофи Аннана). Под снеговиком был стишок, написанный мамой:
Что за чёрный капитал Всё собою пропитал? Он смешную кепку носит, Букву «Р» не произносит!
Став постарше, Кика набросился на книги. Из многочисленных детских энциклопедий, которые покупал отец, выяснилось, что нефть – это не кровь земли, как он наивно полагал, а что - то вроде горючего перегноя, который образовался из живых организмов, в глубокой древности населявших планету.
Он был потрясён, узнав, что динозавры, которых, как кажется, может воскресить только компьютерная анимация, не исчезли без следа, а существуют и в наше время – в виде густой и пахучей чёрной жидкости, которую добывает из - под земли его отец. Когда его впервые посетила эта мысль, он спросил отца: «Папа, а сколько динозавров съедает в час наша машина?» Эти слова, показавшиеся отцу ребячьим бредом, имели, как мы видим, достаточно серьёзную подоплёку.
Естественно, маленького Кику интересовала не только нефть. Как и другие дети, он задавался великими вопросами, на которые не знает ответа никто из взрослых. Отец отвечал как мог, со стыдом чувствуя, что ничего не понимает про мир, в котором зарабатывает такие огромные деньги, – словом, всё было как в обычной семье. Однажды Кика спросил, куда деваются люди после смерти.
Это случилось в промежутке между двумя загранпоездками; Кика временно ходил в казанский садик, где сидел на горшке рядом с внуком идеологического секретаря национальной компартии. Нафиков - старший, взобравшийся на вершину жизненного Олимпа исключительно благодаря своей интуиции, сделал стойку. Чутьё подсказало ему, что надо быть очень и очень осторожным: именно из - за подобных мелочей бесславно завершилось множество карьер. Сославшись на головную боль, он велел Кике отстать, а сам попросил помощника срочно подготовить по этому вопросу взвешенную справку, в которой будет максимально внятно отражено всё то, что говорит по этому поводу официальная идеология.
На следующий день потрясённый Кика узнал, что после смерти советский человек живёт в плодах своих дел. Это знание вдохновило мальчика на новую серию жутковатых рисунков: подъёмные краны, составленные из сотен схватившихся друг за друга рук; поезда, словно сороконожки, передвигающиеся на множестве растущих из вагонов ног; реактивные самолёты, из дюз (3) которых смотрят пламенные глаза генерального конструктора, и так далее. Интересно, что всем этим машинам, даже самолётам, Кика подрисовывал рот, в который маршировали шеренги крохотных динозавров, похожих на чёрных ощипанных кур.
Если у Кики и состоялся обмен метафизическим опытом с соседями по горшку, он закончился без вреда для отцовской карьеры. Но объяснение тайны советского после смертия засело в сознании ребёнка так глубоко, что стало, можно сказать, фундаментом его формирующегося мировоззрения. Естественно, что эта тема вскоре оказалась в тени других детских интересов. Но через много лет, когда выросший Кика уже изучал философию в Сорбонне, началась российская приватизация, и прежний вопрос поднялся из тёмных глубин его ума.
Допустим, советские люди жили после смерти в плодах своих дел. Но куда, спрашивается, девались строители развитого социализма, когда эти плоды были обналичены по льготному курсу группой товарищей по удаче? То, что в эту группу входил его отец, делало проблему ещё более мучительной, потому что она становилась личной. Где они теперь, весёлые строители Магнитки и Комсомольска, отважные первопроходцы космоса и целины, суровые покорители Гулага и Арктики?
Ответ, что созданное их трудом сгнило и пропало, не устраивал Кику – он знал, что вещи переходят друг в друга, подобно тому, как родители продолжают себя в детях: детали нового станка вытачивают на старом, а сталь переплавляется в сталь.
Другой расхожий ответ – что всё, мол, разворовано, продано и вывезено – был одинаково непродуктивен. Кику волновал не уголовно - имущественный, а философско - метафизический аспект вопроса. Можно было месяцами изучать бизнес - схемы и маршруты перетекания капитала, можно было наизусть заучить биографии олигархов – и декоративных, которые у всех на виду, и настоящих, о которых мало что знает доверчивый обыватель, – но от этого не делалось яснее, куда отправились миллионы поверивших в коммунизм душ после закрытия советского проекта.
Этот вопрос ржавым гвоздём засел в сознании Кики и долгие годы ждал своего часа.
Однажды этот час пробил.
Предоставим слово Кике и «Македонской критике»:
«Был обычный осенний полдень, ясный и тихий. Я сидел у телевизора с книжкой; кажется, это был «Символический обмен и смерть» чудовищного Бодрияра.
На экране мелькал какой - то мультфильм, за которым я следил краем глаза: пират в треуголке, радостно хохоча, танцевал вокруг сундука с сокровищами, время от времени нагибаясь над ним, чтобы запустить руки в кучу золотых пиастров... И вдруг крышка сундука обрушилась вниз, вычеканив из его головы монету вроде тех, что лежали внутри. Монета была ещё живой – профиль на ней яростно моргал единственным сохранившимся глазом, но рот, похоже, склеился навсегда. Туммим (Тумимм. Переводчик - синхронист немецких мультфильмов для главного героя, увлекался запрещёнными веществами, прим. ОЛЛИ), который в этот момент был на пике прихода, прекратил хихикать (таким образом он переводил смех пирата) и спросил непонятно кого – надо полагать, меня, потому что, кроме нас и охраны, на вилле никого не было:
– Интересно, а остальные монеты... Они что, типа тоже из голов, да? Типа другие пираты подходили, открывали, потом бам, и все, да? И за несколько веков, значит, набежал целый сундук...
Мой взгляд упал на страницу и выхватил из путаницы невнятных смыслов странное словосочетание: «работник, умерший в капитале». И тайна денег в одну секунду сделалась ясна, как небо за окном».
Попробуем коротко изложить то, что Кика называл «тайной денег».
Деньги, по его мнению, и есть остающаяся от людей «нефть», та форма, в которой их вложенная в труд жизненная сила существует после смерти. Денег в мире становится всё больше, потому что всё больше жизней втекает в этот резервуар. Отсюда Кика делает впечатляющий вывод: мировая финансовая клика, манипулирующая денежными потоками, контролирует души мёртвых, как египетские маги в фильме «Мумия возвращается» с помощью чар управляют армией Анубиса (внимательный читатель «Македонской критики» заметит, что Кика чувствует себя немного увереннее, когда оперирует не категориями философии, а примерами из кинематографа).
Здесь и кроется разгадка посмертного исчезновения советского народа. Плезиозавр, плескавшийся в море там, где ныне раскинулась Аравийская пустыня, сгорает в моторе японской «Хонды». Жизнь шахтёра - стахановца тикает в бриллиантовых часах «Картье» или пенится в бутылке «Дом Периньон», распиваемой на Рублевском шоссе. Дальше следует ещё более залихватский вираж: по мнению Кики, задачей Гулага было создать альтернативный резервуар жизненной силы, никак не сообщающийся с тем, который контролировали финансовые воротилы Запада.
Победа коммунизма должна была произойти тогда, когда количество коммунистической «человеконефти», насильно экстрагированной из людей, превысит запасы посмертной жизненной силы, находящейся в распоряжении Запада. Это и скрывалось за задачей «победить капитализм в экономическом единоборстве». Коммунистическая человеконефть не была просто деньгами, хотя могла выполнять и эту функцию. По своей природе она была ближе к полной страдания воле, выделенной в чистом виде. Однако произошло немыслимое: после того как система обрушилась, советскую человеконефть стали перекачивать на Запад.
«По своей природе процесс, известный как «вывоз капитала», – пишет Кика, – это не что иное, как слив инфернальных энергий бывшего Советского Союза прямо в мировые резервуары, где хранится жизненная сила рыночных демократий. Боюсь, что никто даже не представляет себе всей опасности, которую таит происходящее для древней западной цивилизации и культуры».
Эта опасность связана с тем, что Кика называет «Серным фактором». Название взято им из нефтяного бизнеса.
Знание технологических аспектов нефтяного дела, которое он обнаруживает в своих выкладках, неудивительно – надо полагать, об этих вопросах Нафиковы говорили за утренним чаем, так же, как в других семьях беседуют о футболе и погоде. Просим прощения, если некоторые понятия, которыми оперирует Кика, покажутся слишком специальными, но цитата поможет лучше представить себе безумную логику «Македонской критики».
«Если полстакана «Red Label» смешать с полстаканом «Black Label», – пишет Нафиков, – получившееся виски будет лучше первого, но хуже второго. С нефтью то же самое.
Продукт под названием «Urals», который продаёт Россия, – это не один сорт, а смесь множества разных по составу нефтей, закачиваемых в одну трубу. При этом происходит усреднение качества. Поэтому те поставщики, нефть которых выше сортом и содержит меньше серы, получают компенсацию. Это так называемый Серный фактор, рассчитываемый по формуле:
Сф = 3,68 (s2 – s1) долларов за тонну
Здесь s2 – коэффициент, отражающий среднее содержание серы в смеси, а s1 – её содержание в нефти более высокого качества.
Тот же принцип пересчёта действует для североморской нефти Brent, сахарской смеси Saharan Blend, Arabian Light и так далее. Всё это – коктейли из множества ингредиентов, которые значительно отличаются друг от друга.
Символично, однако, что в нефти Urals значительно больше серы по сравнению с другими марками – что поэтически точно отражает специфику её добычи и многие аспекты связанной с ней деятельности. Каждый, кто знаком с российским нефтяным бизнесом, знает этот незабываемый привкус Серного фактора во всём – от первой утренней чашки кофе до последнего ночного кошмара. И чем ближе к трубе, тем сильнее пахнет серой.
Отсюда и этот характерный для российской нефтяной элиты «бурильный» взгляд – как на последних фотографиях Бодрияра.
Раз уж речь зашла о Бодрияре. Вот кого можно назвать серным кардиналом французской мысли...»
из повести Виктора Пелевина - «Македонская критика французской мысли»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) Достигается это оригинальным способом: Кика имперсонирует невежду, никогда в жизни не читавшего этих философов - Имперсонация - Выдача себя за иное лицо.
(2) Он проявляется в желании уничтожить идейного предшественника, магически перенеся на него судьбу отца, испытавшего на себе всю мощь македонской критики - Отец главного героя был застрелен киллером Шурой Македонским. Шура Македонский, в свою очередь это отсылка к реально существовавшему киллеру Александр Солоник. Александр Викторович Солоник (известен как «Валерьяныч» и «Александр Македонский») — российский наёмный убийца, на счету которого десятки убийств, в том числе убийства уголовных «авторитетов». Получил широкую известность в преступном мире и правоохранительных органах 1990 - х годов. 31 января 1997 года другой российский киллер и бывший морской пехотинец Александр Пустовалов («Саша солдат») задушил Александра Солоника на вилле Солоника.
(3) реактивные самолёты, из дюз которых смотрят пламенные глаза генерального конструктора - Дюза - Устаревшее название наконечника (сопла, насадки) для выброса (распыления) направленной струи жидкости или газа.