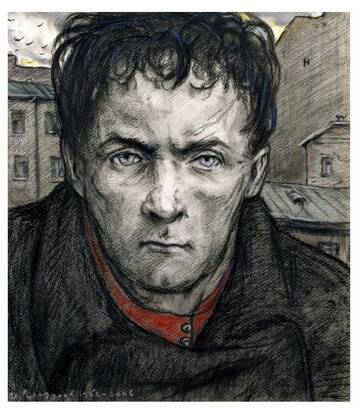Шахта: Мать - Жена
Шахта чёрная - чёрная -
Только звёздочками глаза.
Да белеют шахтерские зубы.
Антрацита немягкие шубы.
И бриллиантами пот, как роса.
Шахта грязная - грязная,
И за шиворот подземный дождь.
Запах кислый и угольно - страстный,
А от вЫвалов изредка дрожь.
Шахта серая - серая,
Как мышиной шкурки лоскут.
Жёлтой лампочки надежда смелая.
Злой уклон как судьбинушка крут.
Шахта ржавая - ржавая.
Плачет слёзами красный металл.
Жизнь шахтёра без водки отрава.
Мать - жена долгожданная лава.
А вообще - то, шахтёр устал.
Шахта
Автор: Валерий Литвинов
- Погляди! - выкрикнул возчик, поворачиваясь к югу. - Вон там Монсу ...
И, вновь протянув руку, он указывал на невидимые в темноте селения,
перечисляя их одно за другим.
В Монсу сахарный завод Фовеля еще работает, но
на другом сахарном заводе - у Готона - часть рабочих уволили.
Только паровая мельница Дютилейля да завод Блеза,
где изготовляют канаты для рудников,
устояли.
Затем старик повернулся к северу и широким жестом обвёл
полгоризонта: в Сонвиле машиностроительные мастерские не получили двух
третей обычных заказов; в Маршьене из трёх домен зажгли только две; на
стекольном заводе Гажбуа того и гляди рабочие забастуют, потому что им хотят
снизить заработную плату.
- Знаю, знаю, - повторял прохожий, выслушивая эти сведения. - Я уже был
там.
- У нас тут пока ещё держатся, - добавил возчик. - Но всё ж таки на
шахте добычу уменьшили. А вот глядите, прямо перед вами - Виктуар, там
только две коксовые батареи горят.
Он сплюнул, перепряг свою сонную лошадь к поезду пустых вагонеток и
зашагал позади них.
Этьен пристально смотрел вокруг. По - прежнему все тонуло во мраке, но
рука старика возчика словно наполнила тьму великими скорбями обездоленных, и
молодой путник безотчётно их чувствовал, - они были повсюду в этой
беспредельной шири.
Уж не стоны ли голодных разносит мартовский ветер по
этой голой равнине? Как он разбушевался! Как злобно воет, словно грозит, что
скоро всему конец: не будет работы, и наступит голод, и много - много людей
умрёт!
Этьен всё смотрел, стараясь пронизать взглядом темноту, хотел и
боялся увидеть, что в ней таится. Всё скрывала чёрная завеса ночи, лишь
вдалеке брезжили отсветы над доменными печами и коксовыми батареями.
Коксовые подняли вверх чуть наискось десятки своих труб, и над ними блещут
красные языки пламени, а две башни доменных печей бросают в небо голубое
пламя, словно гигантские факелы.
В ту сторону жутко было смотреть, - там как будто полыхало зарево пожара;
в небе не было ни единой звезды, лишь эти ночные огни горели на мрачном горизонте -
как символ края каменного угля и железной руды.
- Вы, может, из Бельгии? - послышался за спиной Этьена голос возчика,
успевшего сделать ещё один рейс.
На этот раз он пригнал только три вагонетки. Надо разгрузить хоть эти
три: случилось повреждение в клети, подающей уголь на - гора (*), - сломалась
какая - то гайка; работа остановилась на четверть часа, если не больше.
У подножия террикона стало тихо, смолк долгий грохот колес, сотрясавший мост.
Слышался только отдаленный стук молота, ударявшего о железо.
- Нет, я с юга, - ответил Этьен.
Рабочий опорожнил вагонетки и сел на землю, радуясь нежданному отдыху;
он по - прежнему угрюмо молчал и только вскинул на возчика тусклые выпуклые
глаза, словно досадуя на его словоохотливость.
Возчик обычно был
неразговорчив. Должно быть, незнакомец чём - то ему понравился, и на него
нашло желание излить душу, - ведь недаром старики зачастую говорят вслух
сами с собой.
- А я из Монсу, - сказал он. - Звать меня Бессмертный.
- Это что ж, прозвище? - удивлённо спросил Этьен.
Старик захихикал с довольным видом и, указывая на шахту, - ответил:
- Да, да, прозвали так. Меня три раза вытаскивали оттуда еле живого.
Один раз обгорел я, в другой раз - землёй засыпало при обвале, а в третий -
наглотался воды, брюхо раздуло, как у лягушки... И вот как увидели, что я не
согласен помирать, меня и прозвали в шутку "Бессмертный".
И он засмеялся ещё веселее, но его смех, напоминавший скрип немазаного
колеса, перешёл в сильнейший приступ кашля.
Языки пламени, вырывавшиеся из жаровни,
ярко освещали его большую голову с редкими седыми волосами, его
бледное, круглое лицо, испещрённое синеватыми пятнами.
У этого низкорослого человека была непомерно широкая шея, кривые ноги, выпяченные икры и такие
длинные руки, что узловатые кисти доходили до колен. А вдобавок он, как и
его лошадь, которая спала стоя, как будто не чувствуя северного ветра, тоже
был словно каменный и, казалось, не замечал ни холода, ни порывов ветра,
свистевшего ему в уши.
Когда приступ кашля, раздиравшего ему горло и грудь,
кончился, он сплюнул ка землю около огня, и на ней осталось чёрное пятно.
Этьен посмотрел на старика, посмотрел на землю, испещрённую чёрными
плевками.
- В копях давно работаете? - спросил он. Бессмертный развёл руками:
- Давно ли? Да с измальства - восьми лет ещё не было, как спустился в
шахту, - вот как раз в эту самую, в Ворейскую, а сейчас мне пятьдесят
восемь. Ну - ка сосчитайте... Всем перебывал: сперва коногоном, потом
откатчиком - когда сил прибавилось, а потом стал забойщиком, восемнадцать
лет рубал уголёк. Да вот обезножел я, ревматизм одолел, и из - за него,
проклятого, меня перевели из забойщиков в ремонтные рабочие, а потом
пришлось поднять меня на - гора, а то доктор сказал, что я под землей так
навеки и останусь. Ну вот, пять лет назад меня поставили возчиком. Что?
Здорово всё - таки! Пятьдесят лет на шахте, а из них - сорок пять под землей.
Пока он рассказывал, горящие куски угля, то и дело падавшие из жаровни,
багровыми отблесками освещали его бледное лицо.
- Теперь они мне говорят: на покой пора, - продолжал он. - А я не хочу.
Нашли тоже дурака!.. Ещё два годика протяну - до шестидесяти, значит, - и
буду тогда получать пенсию в сто восемьдесят франков. А если сейчас с ними
распрощаюсь, они дадут только сто пятьдесят. Ловкачи! И чего гонят? Я ещё
крепкий, только вот ноги сдали. А всё, знаешь ли, из - за воды. Вода меня в
забоях поливала восемнадцать лет, - ну и взошла под кожу. Иной день, чуть
пошевельнешься, криком кричишь.
И он опять закашлялся.
- Кашель тоже от этого? - спросил Этьен.
Но старик вместо ответа энергично мотал головой. А когда отдышался,
сказал:
- Нет. В прошлом месяце простудился. Раньше -т о никогда кашля не бывало,
а тут, гляди - ка, привязался, никак от него не отвяжешься. И вот чудное дело:
харкаю, харкаю...
В горле у него заклокотало, и он опять сплюнул чёрным.
- Это что же, кровь? - осмелился наконец спросить Этьен.
Бессмертный не спеша вытер рот рукавом.
- Да нет, уголь... В нутро у меня столько угля набилось, что хватит на
топку до конца жизни. А ведь уже пять лет под землей не работаю. Стало быть,
раньше припас уголька, а сам про то ничего и не знал. Не беда, с углём
крепче буду.
Наступило молчание.
из романа Эмиль Золя - «Жерминаль»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) подающей уголь на - гора - «Уголь на гора» — это выражение, означающее поднять уголь на поверхность шахты. Оно происходит от речи шахтёров, которые словом «гора» обозначали верхнюю поверхность шахты.