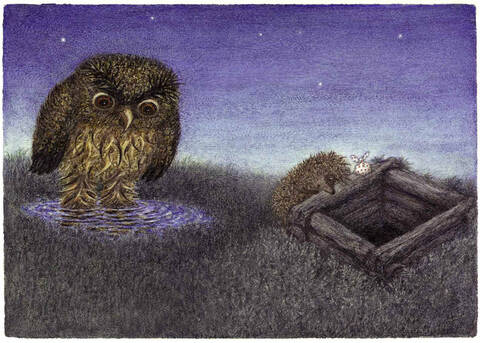В бесконечной паутине его внимания
В центре Большого Взрыва вечно сидит ткачиха,
Звёздная паучиха, наш демиург из сна.
Лет биллион без отрыва, медленно, быстро, тихо
Льется кружево мира, нервного волокна.
Синапсами (*) по нитям, импульсами по трактам
Движутся боги, люди, твари и существа.
В крошево звёздный бисер, спутаны нити тактов
Там, где проходит Трикстер, а перед ним молва.
Кем бы он ни был – Локи, Ворон, Койот, Ананси –
Вечной колоды джокер бьёт все подряд, хохоча.
Жаркой бразильской ночью мается Бендер в трансе
У блокпоста на дороге жёлтого кирпича.
Хоть в другой мир пропустите, вот миллион, возьмите!
Переиграл ваш джокер мелкого трюкача.
Нить у ткачихи рвётся, сыплется бисер с орбиты.
Трикстера не вините, он пошутил сгоряча.
Звёздная паучиха в центре Большого Взрыва
Чинит титаном нити нервного волокна.
Карты к игре готовы, вновь выпадает джокер
Люди так любят дороги битого кирпича.
Джокер
Автор: Лана 2019 Свет
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) Синапсами по нитям - Синапс — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Звук приглушённых шагов, отскакивая от стен, уносился вверх. Туда, где, вероятно, должен находиться вход в это подземелье. Это именно подземелье, и ни что иное, хотя узкая винтовая лестница, словно бур вгрызающаяся в холодную сырую темноту, могла являть собой и внутренности гигантской башни. Но та самая сырость, то самое беззвучие, царившее здесь, однозначно склоняли выбор в пользу подземелья.
Бин не в первый раз спускался по этим выщербленным временем ступеням. Словно дежавю, преследовало его это ощущение, когда пытаешься в темноте нащупать ногой следующую ступеньку, держась рукой за влажный шершавый камень. Он точно знал, что будет идти вот так вот какое - то время, стараясь не упасть. Он никогда не знает, как попал на эту треклятую лестницу – он просто оказывается здесь, уже погружённый в этот липкий мрак. Иногда он оскальзывается на мокрых от скопившейся в воздухе влаги ступеньках, но, хвала богам, всякий раз успевает упереться в стены обеими руками, благо ширина коридора вполне это позволяет.
Спускаясь вниз, Бин уже знает, что будет дальше. В какой-то момент лестница упрётся в небольшую закрытую дверь. Даже зная, что будет за этой дверью, Бин всякий раз некоторое время неловко мнётся, прежде чем осторожно толкнуть её. Более того, он точно знает, что из этого осторожного толчка ничего не выйдет, поскольку дверные петли порядком поржавели, так что придётся толкнуть сильнее. Но всё равно из раза в раз он сначала мнётся, затем легонько нажимает на склизкие доски одними пальцами.
Что ж, и в этот раз никаких неожиданностей – дверь остаётся недвижимой. Вздохнув, Бин с усилием толкает её сперва ладонью, а затем и плечом. Лишь тогда, издав сдавленный скрип, словно приглушенный окружающим сумраком, дверь поддаётся. И в тот же миг по другую сторону двери вспыхивает слабый голубоватый свет, словно отсвет молнии, только горящий ровно и скупо.
Сердце вновь оборвалось, всем своим весом придавив мочевой пузырь. Бин словно забывает дышать на время, зачарованно глядя на узкую полоску света, которая одновременно и манит, и пугает. Однако он уже знает, что должен отворить дверь и войти. Потому что там его ждут. Ждёт тот, кто не привык долго ждать. А может и наоборот – привык ждать слишком долго. Вымученно сглотнув, Бин расширяет проход и входит внутрь довольно небольшой, весьма аскетичной комнаты.
Здесь нет почти ничего. Такие же голые стены, как и там, на лестнице. В этом голубоватом сиянии они выглядят странно белёсыми, словно поседевшими от времени. На огромных, грубо отёсанных валунах, из которых построена стена, кажется, и впрямь лежит тонкая вязь инея. Или это конденсировавшиеся капельки воды?
Откуда льётся свет – понять невозможно. Источника света нет, поэтому создаётся впечатление, что слабое свечение исходит от самой комнаты, от её воздуха. Ни одного окна – да и впрямь, откуда им взяться на такой глубине? Из мебели – лишь странное ложе, более похожее на алтарь. Лежащего на ложе не видно – его (или её) скрывает лёгкий полупрозрачный полог. Но в том, что за этим пологом кто - то есть, Бин не сомневается ни на секунду. Тот, кто ждёт его. Тот, по чьему зову он пришёл.
Однако за пологом – ни малейшего движения, ни малейшего шороха. Хозяин никак не даёт понять, что заметил присутствие гостя. Хотя нет же – ведь свет этот зажёгся лишь в тот миг, когда дверь приоткрылась. Но почему же тогда таинственный хозяин не хочет показаться? Почему нарушает древние правила вежества? Что - то пугающее, леденящее было в этом недвижимом ожидании.
Бину жутко хочется в туалет, и при этом желательно, чтобы туалет этот был где - нибудь в тысяче лиг отсюда, но реальность такова, что он сейчас здесь, а не где - то ещё, поэтому весьма глупо просто стоять столбом. То, что он состарится и умрёт прежде, чем некто за пологом сделает хотя бы одно движение, Бин отчего-то не сомневался. Значит, инициативу придётся взять на себя.
Крадучись, хотя и не понимая – зачем, Бин двинулся к ложу. Медленными шагами, стараясь не потревожить древнюю тишину. Кисть правой руки намертво вцепилась в ткань рубахи рядом с сердцем – он словно боится того, что бешеный стук потревожит жутковатого хозяина этого жутковатого подземелья. Левая рука тоже сжата в кулак – так, что её уже свело, но Бин сейчас этого не чувствует. Нижняя губа закушена почти до крови.
Кое - как расцепив судорожно сжатые пальцы, Бин медленно протянул руку к пологу. Боязливо коснулся его, будто боясь, что тот окажется горячим или отравленным. Затем, собравшись с духом, внезапным резким движением он отодвинул полупрозрачную ткань.
И невольно отпрянул. Потому что на ложе лежала мумия. Кожа, ссохшаяся до такого состояния, что выглядела, словно отполированное дерево, туго обтягивала череп, словно между ними не было ни мышц, ни жира. Жидкие блеклые волосы цвета грязной седины в беспорядке разметались по некому подобию подушки. Отвратительный провал беззубого ссохшегося рта. Тщедушное тельце, одетое в какое - то рубище, с равным успехом могло принадлежать как мужчине, так и женщине. Руки, словно сухие веточки, были сложены на груди.
Единственное, что жило на этом, казалось бы, мёртвом теле – глаза. Огромные, распахнутые и немигающие глаза лирры. Они смотрели в одну точку, никак не отреагировав на появление гостя.
И тут Бина скрутило, подломив ноги. Прямо изнутри, из его головы, ударил чёткий, словно налитый металлом, голос:
– Найди меня!
– Что?.. – падая на колени, прохрипел Бин, хотя прекрасно расслышал приказ.
– Найди меня, – так же, как и в прошлый раз, тяжёлый женский голос звучал прямо в черепной коробке. – Приди и найди меня.
– Но… – несмотря на то, что голос мумии звучал прямо в голове, до Бина словно не доходил смысл сказанных слов. Он отупело мотал головой, пытаясь прийти в себя и понять, что тут вообще происходит.
– Мэйлинн… – тяжёлым каменным шаром упало слово на его измученный мозг, и Бин отключился…
***
Бин открыл глаза. Вокруг была темнота, но не сырая и холодная, как в комнате говорящей мумии, а влажная и жаркая. Был разгар лета. Месяц, именуемый жарким , полностью оправдывал своё название. Жара стояла адская. Почти как тогда, шесть лет назад, когда… Когда они впервые встретились с Мэйлинн…
Это имя снова больно отозвалось в груди, и Бин был бы не прочь отключиться вновь, но он знал, что этого не будет. То был лишь сон, который, правда, преследовал его неотступно уже несколько недель, но, тем не менее, не переставал быть от этого лишь сном. А это была реальность. Реальность, от которой уже не убежишь…
Бин знал, что сейчас едва ли прошло более часа после полуночи. Так же, как и знал то, что теперь уж не уснёт до самого утра. Этой ночью он снова был обречён на метания в жаркой влажной кровати, на сбитой, скомканной простыне и колючей, раскалённой добела подушке.
Мэйлинн… Против воли это имя всё крутилось в голове, подобно мечущейся по клетке птице. Несмотря на всю боль, что причиняли Бину воспоминания об удивительной лирре, он бережно лелеял их, словно скряга, ласкающий пальцами золотые монеты.
К сожалению, воспоминания были весьма отрывочны – Бин словно вспоминал сон, который видел когда-то. Какие-то куски держались в памяти очень ярко – их первая встреча в Пыжах, бегство от подружки Оливы… Остальные моменты были куда тусклее – смутные обрывки и образы. Они были где-то с Мэйлинн, но где – Бин никак не мог вспомнить. В памяти ярко отпечатались какие-то секундные сцены: вот Мэйлинн изящным взмахом кинжала повергает какого - то типа, который пытался пырнуть его, Бина; очень ярка была сцена, когда он, почему - то снизу, словно с пола смотрит на кровать, на которой сидит лирра, наставив на кого-то арбалет.
Иногда даже казалось, что они с Мэйлинн побывали в море, причём ему это, вроде бы, не слишком понравилось… Однако ничего конкретного вспомнить так и не получалось. И главное – Бин никак не мог вспомнить: нашла ли Мэйлинн свою Белую Башню? Иной раз ему грезилась огромная белая громада, нависающая над скалистым островом, но было ли это в действительности, или же являлось плодом его воображения – этого Бин не знал.
Память словно была стёрта – жестоко и беспардонно. Бин не мог не чувствовать, что он забыл нечто очень важное. Он словно пытался ухватить в воде невероятно скользкую рыбину, но пока мог похвастать лишь ощущениями касаний плавников и скользкой, покрытой слизью чешуи.
И Бин точно знал, кого нужно винить в этом. Её, Герцогиню Чёрной Башни. Бин совершенно не помнил – что сталось с Мэйлинн, и это мучило больше всего. Но к этим мучениям добавлялся парализующий ужас, что в исчезновении лирры виновна именно Герцогиня. Доказательств тому у Бина, конечно, не было, но всем своим нутром он ощущал именно это.
Мэйлинн в беде, она – у Герцогини.
Герцогиня Чёрной Башни. Хроники Паэтты (Отрывок)
Автор: Александр Ник Фёдоров